К вопросу о политизации памяти о Великой Отечественной войне в современной Европе
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
(Голосов: 23, Рейтинг: 4.78) |
(23 голоса) |
Член Российской ассоциации историков Первой мировой войны, магистр политологии (МГИМО)
В последнее десятилетие в преддверие каждой годовщины победы над нацистской Германией мы сталкиваемся не только с ростом общественного интереса к этим страницам прошлого, но и с нарастающими попытками осмыслить нашу увлеченность ими, что неудивительно: в современном мире история есть больше, чем история, и Россия не составляет исключение. Мемориальный бум последней трети XX века, отмечаемый в странах Европы и Северной Америки, повлек за собой становление специфического поля «публичной истории» (public history), как способа социальной актуализации исторических знаний и формирование соответствующего междисциплинарного научного направления «исследования памяти» (memory studies). Дискуссии о прошлом начали приобретать повышенную политическую значимость, однако причины этого разнятся от одной страны к другой. Примечательно, что последний за 2018 год номер международного журнала Economist (весьма далекого от культурологических штудий) открылся редакционной статьей под симптоматичным названием «Ностальгия в действии», в которой утверждалось: «Политики всегда использовали прошлое. Однако сегодня в развитых и развивающихся странах мы наблюдаем взрыв ностальгии. Правые и левые, демократы и автократы — все они все чаще обращаются к славным страницам прошедших лет».
Если максимально кратко сформулировать причину, по которой политики и простые граждане стали все чаще, фигурально выражаясь, оглядываться назад, а не смотреть вперед, то надо указать на важный культурный сдвиг обществ модерна (о чем писали такие известные исследователи, как П. Нора, А. Ассман и З. Бауман): при деформации образа будущего расширяется горизонт «вечного настоящего», что в свою очередь сопровождается ростом попыток через обращение к истории осуществить интерпретацию сегодняшнего дня. Прошлое превращается в ресурс, интересный и для творческо-интеллектуальной рефлексии, и для извлечения экономического дохода (от исторического туризма до обоснования прав на реституцию собственности), и для организации досуга (движение реконструкции, исторические фильмы, косплей и пр.), и для подкрепления политических притязаний.
Многолетняя активность России по представлению себя как спасительницы Европы от нацизма и потому добродетельной державы никак не сказалась на общем направлении европейских дискуссий о Второй мировой войне. Естественно, при желании всегда можно ситуативно найти общий язык, как например, это было сделано на памятной церемонии 2009 г. (к 70-летию начала Второй мировой) в Вестерплатте (Польша). Тогда В. Путин говорил об ошибочности политики умиротворения Гитлера в целом, включив в число этих шагов и «пакт Молотова — Риббентропа», в то время как его польский коллега Д. Туск отметил, что Красная армия принесла полякам свободу от нацизма, однако называть это полной свободой преждевременно. Политическая воля — залог компромисса исторических трактовок в официальных речах. Но это не отменяет главного: разговор о совместном прошлом без обозначения общих ценностей и перспектив будущего всегда будет чреват конфликтами и возвратом к «войнам памяти».
В последнее десятилетие в преддверие каждой годовщины победы над нацистской Германией мы сталкиваемся не только с ростом общественного интереса к этим страницам прошлого, но и с нарастающими попытками осмыслить нашу увлеченность ими, что неудивительно: в современном мире история есть больше, чем история, и Россия не составляет исключение. Мемориальный бум последней трети XX века, отмечаемый в странах Европы и Северной Америки, повлек за собой становление специфического поля «публичной истории» (public history), как способа социальной актуализации исторических знаний и формирование соответствующего междисциплинарного научного направления «исследования памяти» (memory studies). Дискуссии о прошлом начали приобретать повышенную политическую значимость, однако, причины этого разнятся от одной страны к другой. Примечательно, что последний за 2018 год номер международного журнала Economist (весьма далекого от культурологических штудий) открылся редакционной статьей под симптоматичным названием «Ностальгия в действии», в которой утверждалось: «Политики всегда использовали прошлое. Однако сегодня в развитых и развивающихся странах мы наблюдаем взрыв ностальгии. Правые и левые, демократы и автократы — все они все чаще обращаются к славным страницам прошедших лет»[1].
Если максимально кратко сформулировать причину, по которой политики и простые граждане стали все чаще, фигурально выражаясь, оглядываться назад, а не смотреть вперед, то надо указать на важный культурный сдвиг обществ модерна (о чем писали такие известные исследователи, как П. Нора, А. Ассман и З. Бауман[2]): при деформации образа будущего расширяется горизонт «вечного настоящего», что в свою очередь сопровождается ростом попыток через обращение к истории осуществить интерпретацию сегодняшнего дня. Прошлое превращается в ресурс, интересный и для творческо-интеллектуальной рефлексии, и для извлечения экономического дохода (от исторического туризма до обоснования прав на реституцию собственности), и для организации досуга (движение реконструкции, исторические фильмы, косплей и пр.), и для подкрепления политических притязаний.

Мемуары, написанные кровью
Прошлое и моральные основы российской нации
Особенность России заключается в том, что крушение Советского Союза привело не просто к отказу от реализации мало кого вдохновлявшего тогда социалистического проекта: на обломках образовались 15 молодых государств, и внутри каждого наряду с выстраиванием новой политической архитектуры, а также перенастройкой экономики и социальных практик необходимо было определиться и с тем, что политологи привыкли называть «национальной общностью» или «макрополитической идентичностью». Одновременно решались две взаимосвязанные проблемы: 1) обоснование молодых политических порядков и бывших административных границ в качестве естественных, должных и принципиально неизменных, а также 2) обозначение того, что в реальности формирует между жителями чувства связанности, общности, выходящей за рамки повседневных и профессиональных связей. Поиск практических ответов требовал выработку ценностного языка, позволяющего описать новое политическое сообщество, выявить, визуализировать и предъявить его как нечто существующее реально, здесь и сейчас. Без этого ценностного языка и связанных с ним конкретных практик граждане остаются всего лишь жителями («населенцами»), государственные деятели — эгоистичными политиканами, предприниматели — хитрыми дельцами, экономическое развитие — гонкой за дополнительными процентами ВВП, реформы и государственное управление — распилом бюджетов.
В России в 1990–2000-е гг. решение этой проблемы сопрягалось и с манящей невозможностью последовать путем других стран (например, апеллировать к этническому или религиозному единству), и все более осознаваемой неготовностью осуществить ценностный импорт, и поразительной неспособностью синтезировать принципиально новый ответ[3]. Неразвитость публичного пространства привела к порождению множества пустопорожних, весьма абстрактных идеологических построений, чуждых подавляющему большинству граждан. Ведь ценностный язык должен быть соразмерен конкретному политическому пространству, со всеми его не всегда очевидными достоинствами, но слишком вопиющими недостатками.
На этом фоне уже с середины 2000-х гг. в публичном пространстве выдвинулась история, апелляция к которой стала постепенно превращаться чуть ли не в доминирующий способ возмещения недостатка ценностей в общественно-политической жизни. Нарастание исторической риторики политиков, создание специальных институтов памяти под руководством высокопоставленных чиновников (как Российское историческое и военно-историческое общества), резкий рост числа музеев и памятников, стремление закрепить исторические формулировки на юридическом уровне, в том числе в Уголовном кодексе и Конституции, — все это далеко не полный список тех процессов, которые свидетельствуют о том, что мы сталкиваемся не просто с попытками «вырастить из пробирки национальную идею» или очередными информационными манипуляциями. И первое, и второе скорее неизбежное следствие цинизма многих участников российской политической борьбы, низводящего историю как источник ценностной легитимности до уровня простой пропаганды.
Именно этот контекст необходимо учитывать, когда мы пытаемся говорить о политике памяти в современной России, иначе за деревьями не увидим леса. Во всех современных государствах образы прошлого имеют значение, но именно у нас они получили особую политическую значимость. Производство национального сообщества требует действенных механизмов (символического языка и конкретных практик), которые позволяют человеку помыслить и обозначить себя за пределами семейных, дружеских, экономических, профессиональных связей как часть более широкого политического единства. Но эти механизмы должны быть одновременно и регулярными, и восприниматься гражданином как формирующие нечто значимое, неслучайное, а потому реальное (пусть даже и не в пространстве бытовой повседневности). И сегодня конструирование российской нации происходит вовсе не через обозначение общего будущего, апелляцию к универсальным ценностям (демократия, права человека или Божья воля), участие в федеральных выборах, поддержку своей партии или регулярное обсуждение общественно-значимых проблем. Значительная часть консолидирующих механизмов связана либо с отдельными событиями как, например, присоединение Крыма, либо с эфемерными, оторванными от повседневности пространствами (спортивные победы или медийно стимулируемый «внешний враг»). И лишь в одном случае — случае истории — мы видим и регулярность, и апелляцию к потенциально близкому и понятному, а не абстрактному, а потому — реальному. Упомянутый выше «эффект реальности» создается, с одной стороны, за счет обращения к семейной памяти, а с другой — через выставление истории как очевидного пространства реально происходивших событий. Данные социологических опросов свидетельствуют, что решение превратить историю в основание российской политии в определенной степени коррелирует с умонастроениями значительной части населения — 96% россиян (на 2017 г.) признают необходимость исторических знаний в нашем обществе, 90% гордятся собственной историей и армией (опрос 2016 г., причем другие предметы гордости уступают им), а 83% считают необходимым вести борьбу с фальсификаторами истории. Впрочем, одновременно это ведет к политизации культуры при деполитизации социальных и экономических проблем[4], а многие критики усматривают стремление властей за исторической риторикой отвлечь внимание от более насущных и значимых, с точки зрения повседневной жизни, вещей.

«Исторический аргумент» и моральное обоснование российской внешней политики
Великая Отечественная война как гражданская религия
Во всем этом процессе центральное место, несомненно, занимает Великая Отечественная война, а уход из жизни ее участников стимулирует поиск новых способов сохранения и освежения памяти о ней. Некоторые исследователи называют ее «мифом основания» (foundation myth) российской нации[5], а совокупность практик обращения — гражданской религией[6]. 9 мая — главный государственный праздник, причем на официальном уровне (если отталкиваться от активности президента) обозначился и ряд других регулярных дат обращения к ней: 27 января (сопрягающая в последние годы трагедию Блокады и Холокоста, а также позволяющую развить тему освободительной миссии Красной армии), 2 февраля (победа под Сталинградом как коренной перелом войны) и 22 июня (день скорби о жертвах войны). Если запущенная в 2005 г. и уже прижившаяся акция «георгиевской / гвардейской ленточки» была первой и в принципе удачной попыткой перформативно закрепить единство вокруг 9 мая, то спустя 10 лет появилась новая и куда более эффективная форма в виде «Бессмертного полка», поскольку единство шествия предполагает одновременно манифестацию разнообразных, глубоко личных для участников смыслов. Сложившаяся еще в 1970–1980-е гг. инфраструктура памятных мест в последние годы активно расширяется — только по линии Российского военно-исторического общества установлены более полусотни памятников и бюстов, связанных с Великой Отечественной, а на фасадах более 3 000 школ появились памятные доски в честь Героев Советского Союза, которые здесь когда-то учились. Отметим, что социологические опросы последних лет фиксируют рост интереса граждан к истории Великой Отечественной войны, а также количество принимающих участие в «Бессмертном полку»[7].
«Культ Победы» как «гражданская религия» — удобная концептуальная метафора, поскольку позволяет уловить важный механизм: Великая Отечественная война превращается в источник символической ренты, к которому традиционно пытаются проявить сопричастность многие политические и социальные акторы. Потому неизбежно происходит деформация языка публичного говорения о войне, а палитра оценок, акцентов и интерпретаций соразмерна всей идейно-политической палитре российского общества. Великая Отечественная — универсальный общественный язык, посредством которого можно выразить все что угодно, а Победа — практически неисчерпаемый ресурс символической ренты[8]. В отличие от советского времени ежегодно 9 мая — это период военного парада, позволяющего заявить о вооруженной силе России. В юбилейные годы практически каждое ведомство пытается обозначить собственную символическую сопричастность через чествование вклада своих профессиональных коллег в Победу. В эту символическую игру включаются и регионы (и через продвижение «своих героев», и через лоббирование включения значимых для них событий в официальный перечень Дня воинской славы и памятных дат России, и через присвоение городам звания Города воинской славы), и различные политические силы (в риторике ЛДПР, например, акцент делается на роли русского народа, у КПРФ — роли советской власти и коммунистической партии, оппозиционные силы будут, наоборот, напоминать о цене победы или дезавуировать властные обращения к памяти о войне как попытку эксплуатировать ее в корыстных целях).
В России обращение к истории призвано восполнить недостаток ценностей в политике, в то время как в зарубежной Европе или США образы прошлого скорее используются для укрепления уже имеющихся ценностей.
Соответственно, изучать состояние памяти о Великой Отечественной войне в России — значит прежде всего пытаться понять логику этой игры, а не фиксировать совокупность позиций. Ключевую роль играют два диалектических, внутренне неразрешимых противоречия. Во-первых, память о войне как моральная основа символического единства всех граждан на практике приводит к соревнованию различных групп, организаций и ведомств, продвигающих частные, партикулярные позиции. Потому всегда существует потенциальная опасность, что всеобщность будет расколота на множество «собственных памятей». Вопрос состоит в том, как поддерживать баланс между частным и всеобщим, тот же «Бессмертный полк» — яркий пример удачного решения. Во-вторых, «сакральное событие» должно быть достоянием всех, однако массовость и практики ее обеспечения приводят к опасности не только утраты контроля над интерпретацией, но и профанации. Например, ежегодно случаются скандалы с праздничными плакатами, где появляются вражеские военнослужащие или их техника. Ответом становится обращение к практикам политической корректности, которые выражаются в дискуссиях о правилах ношения «георгиевской ленточки», проведения «Бессмертного полка» или публичного говорения об отдельных событиях (корректность тех или иных формулировок). Любопытно, что в России именно история стала предметом политической корректности, и как правило, ее отстаивают те, кто одновременно посмеивается над аналогичными практиками за рубежом, имеющими своим предметом вопросы гендера или этничности.
Мы далеки от мысли рассматривать активные общественные дискуссии о различных аспектах Великой Отечественной войны как нечто негативное, принципиально угрожающее памяти о войне и национальной идентичности, скорее наоборот: сама готовность разговаривать — даже с пеной у рта — об общем прошлом куда важнее, нежели согласие вокруг конкретных формулировок и интерпретаций. А имеющиеся противоречия — отражение структурных конфликтов российского общества в целом. Впрочем, мы не можем не отметить склонность к поляризации мнений в публичном пространстве, а начиная с эпохи «перестройки» переосмысление советского нарратива сопровождается активностью тех, кто доводит политизацию до предела: одни атакуют отступления от укорененных в советское время стереотипов как «фальсификацию» и «покушение на патриотизм», при этом видя в прошлом аргумент тотального оправдания власти и авторитарных методов управления, в то время как другие, не гнушаясь откровенными передергиваниями, через обращение к истории Великой Отечественной стремятся то дискредитировать советский политический проект, то разоблачить современную власть и те интерпретации, которые, как считается, она продвигает. Однако не все так трагично. Отечественная историография постепенно преодолевает многочисленные недостатки прежних лет, а с 2010-х гг. активно развивается «новая общественно-научная историография» Великой Отечественной войны, которая одновременно не оставляет камня на камне и от советского официоза, и от его политизированной критики. К представителям этого направления мы относим прежде всего А.В. Исаева, В.Н. Замулина, М. Коломийца, В. Мосунова, М.В. Фоменко, А. Драбкина, А.Р. Дюкова, М.Э. Морозова, С. Бирюка, И. Сдвижкова, А. Волкова, А. Шнеера, Л.А. Терушкина, С. Ушкалова, Д. Хазанова, Е. Кобякова, И. Петрова, Р. Алиева, Д. Шеина и многих других. Далеко не все из них связаны с официальными научными учреждениями, не все являются и профессиональными историками, но их книги, зачастую фундированные архивными документами, выходят в коммерческих издательствах (прежде всего, «Яуза» и «Пятый Рим») неплохими для научной литературы тиражами. Они пишут статьи на порталах Warspot и Warhead, выступают с публичными лекциями (цикл «Архивная революция» и другие передачи TacticMedia, лекторий «Исторические субботы», военно-исторический клуб «Лед и пламя» и пр.), активно спорят и делятся архивными находками в социальных сетях. Все это порождает особое дискуссионное пространство (несколько десятков активных участников, производящих новые знания и оценки, и как минимум, несколько десятков тысяч человек, вовлеченных в той или иной мере в процесс обсуждения), его ключевая характеристика — переплетение научного и медийного, обращение и изучение архивных документах при активном обсуждении на различных преимущественно интернет-платформах. Чьи-то работы более академичны, чьи-то — менее, но именно здесь формируется свежий научный взгляд на Великую Отечественную войну и закладываются основы нового общественного языка, столь необходимого для разговора о ней, языка, выходящего за пределы набивших оскомину тезисов о «защите исторической правды от фальсификаторов» или «борьбе живой памяти, настоящей истории против омертвелого официоза».

Ревизионизм истории как война нарративов. Взгляд с Западных Балкан
Международный контекст
Обеспокоенность памятью о Великой Отечественной войне вызывает и особое внимание к тому, как к этой теме относятся за рубежом. Сегодняшний полу-юбилей уже породил массу различных экспертных статей, где призывы сохранять «истинную память» сопряжены с советами, как лучше ею манипулировать, а за обличаемыми манипуляциями авторы пытаются узреть некие важные социальные, политические или культурологические сдвиги. Память о войне в рамках одной статьи может в одном абзаце быть чем-то онтологически важным, значимым и самостоятельным, а уже в другом превращаться в элемент всего лишь риторики. Все эти дискуссии — скорее симптом особого отношения к истории в современной России: раз Великая Отечественная война столь значима для нас, то автоматически многие готовы считать, будто и для жителей других стран она имеет особое значение. Различные «не те» интерпретации (порою, да, действительно, вздорные с точки зрения исторической науки), деятельность радикалов из числа консерваторов в Восточной Европе — все это не просто высвечивается СМИ, но и является одним из методов консолидировать российскую нацию через образ врага, покушающегося на священную историю.
Это заставляет подозревать, что многие пишущие и говорящие о «фальсификации истории за рубежом» совершенно не обеспокоены самим предметом, их интенции направлены исключительно на внутриполитическое поле, что в свою очередь мешает объективному анализу международного контекста обращения к событиям Второй мировой войны. Как правило, приходится сталкиваться с изначально сомнительным предположением, будто интерпретации, за которые идут бои, действительно имеют значение для политиков, а страны, устами историков, журналистов и чиновников, действительно связаны в единую, пусть и агонистическую, дискуссию (в действительности их очень много). Отсюда берет популярность термин «мемориальные войны», которые на практике представляют собой преимущественно медийный конструкт, возможный исключительно в условиях глобализации информационного пространства. Впрочем, некоторые акторы, включая политических, действительно пытаются этим пользоваться, и если сегодня внешнеполитический престиж России держится преимущественно на памяти о Победе, то может появиться соблазн намеренно ударить по нему.
С точки зрения изучения процессов политической и социальной актуализации памяти необходимо прежде всего прояснить общие контексты этих символических актов, доминирующие структуры, определяющие характер дискуссий. Далее мы сосредоточимся на двух направлениях, имеющих принципиальное значение для «баталий», развернувшихся вокруг Второй мировой войны: способа увязывания прошлого с актуальными ценностями и одновременно идущие процессы транснационализации и национализации памяти о Второй мировой в Европе.
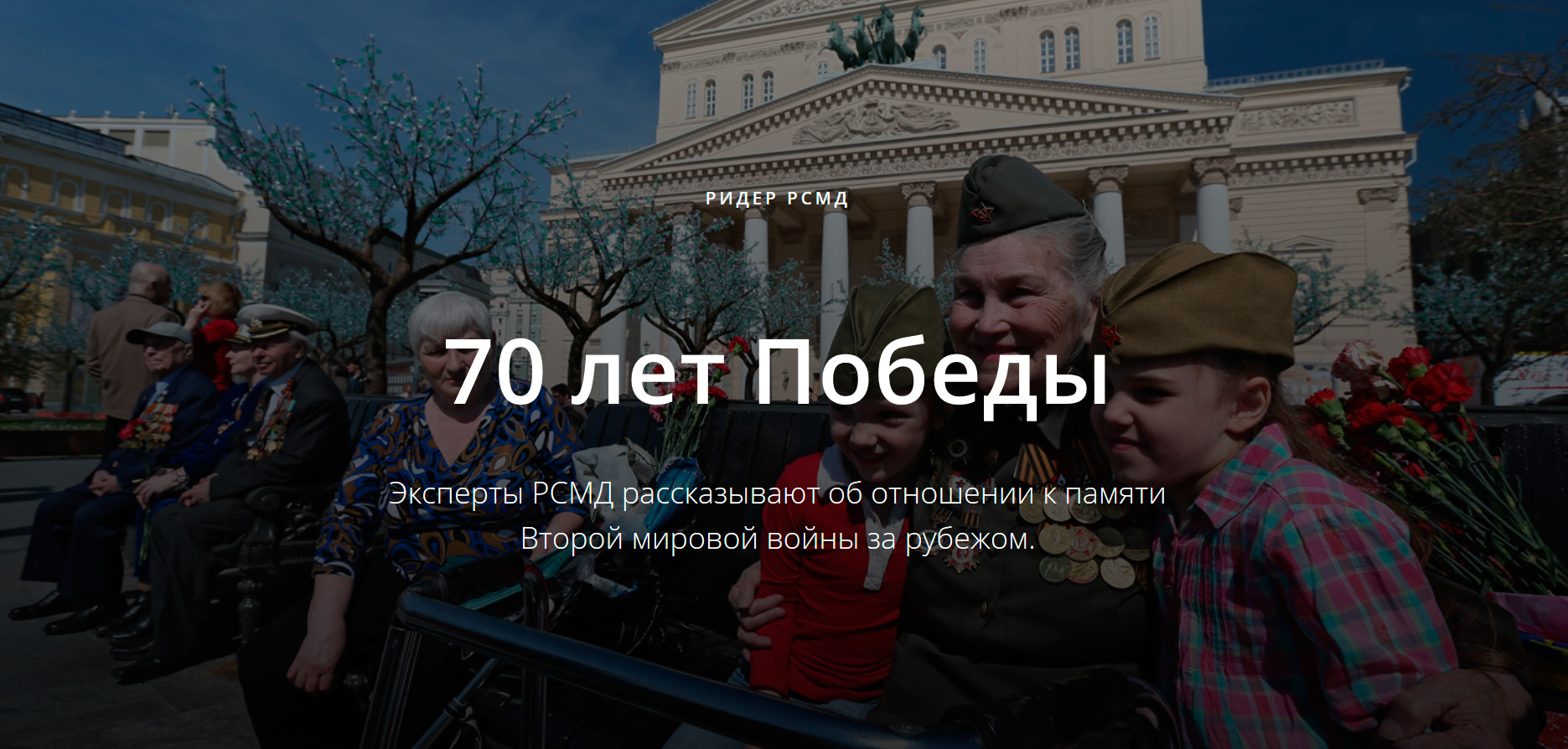
70 лет Победы
Вторая мировая война: универсальные ценности vs добродетели
В России и зарубежной Европе разговор даже об общих страницах прошлого — как Вторая мировая — ведется сквозь призму разных этических систем. Если для многих американских и европейских политиков обращение к истории призвано укрепить приверженность неким общим универсальным ценностям, то для российских представителей оно есть моральный аргумент, свидетельствующий о добродетельности России как внешнеполитического игрока, а общими здесь могут быть некое видение ситуации и проводимая политика. Так, например, в 2019 г. заявление президента США Д. Трампа к Международному дню жертв Холокоста выстроено так, что отсылка к этой трагедии и тем жертвам, которые сумели ее пережить, укрепляет приверженность правам человека, что, в свою очередь, делает логичным призыв к борьбе против того, что угрожает им: «Хотя они (пережившие Холокост. — К.П.) постепенно уходят от нас, их опыт остается с нами, укрепляя нас в борьбе с нетолерантностью, включая антисемитизм и другие формы фанатизма и дискриминации <…> Мы должны сохранять бдительность, защищая фундаментальные права и неотъемлемое достоинство человека». Прозвучавшее в эти же дни выступление В. Путина во время торжественных памятных мероприятиях в Москве в присутствии премьера Израиля Б. Нетаньяху строилось иначе. Оно представляло собой исторический нарратив о трагедии и героизме советского народа и Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма. Озвученные факты (они не вызывают нареканий с исторической точки зрения) позволяли установить взаимосвязь между прошлым и отдельными ориентирами российской внешней политики (неприятие идеи мирового господства, борьба против различных форм национализма). Отсылка к прошлому есть повод указать на позитивную преемственность между современной Россией и победившим советским народом.
Приведенные цитаты призваны лишь проиллюстрировать то, как за ситуативной риторикой скрывается разница в этических системах. В России обращение к истории призвано восполнить недостаток ценностей в политике, в то время как в зарубежной Европе или США образы прошлого скорее используются для укрепления уже имеющихся ценностей. Победы и успехи прошлого видятся как залог обоснования добродетельности России как ответственного игрока, как рентный и потенциально неисчерпаемый ресурс символического престижа. Вопреки утверждениям критиков «историческая составляющая внешнеполитического курса» вовсе не ограничивается лишь риторикой, а включает весьма разнообразный арсенал практик, реализуемых различными дружественными общественными структурами: организацию передвижных мультимедийных выставок (например, «Мифы о войне», «Помни… мир спас советский солдат» в 2016–2018 гг.); формирование памятных мест (памятники в честь советского солдата в Сербии, Бельгии, Словении, Чехии и других странах; в 2012 г. в г. Чачак (Сербия) появилась улица Красной армии, в 2015 г. в крупнейшем парке Анкары «Долина Дикмен», Турция, открылась «Алея Памяти» к 70-летию Победы во Второй мировой войне), музейных площадок (например, музейно-исследовательский центр в г. Марибор (Словения) в 2015 г.), продвижение отечественного исторического кинематографа (например, фильм К. Хабенского «Собибор» в 2018 г. продвигался через официальные структуры как минимум в 29 странах[9]). Наиболее удачной оказалась практика проведения «Бессмертного полка», например, 9 мая 2019 г. в Берлине на нее пришли тысячи соотечественников. Тем самым именно история оказалась тем языком, посредством которого удалось перформативно обозначить и явить тот самый «русский мир», о который было сломлено много копий.
Только перечисление организованных мероприятий разного уровня за последние десять лет потребовало бы отдельной книги, однако количественные показатели не должны отвлекать от качественного содержания. Образы прошлого являются способом репрезентации России, обозначения ее места в мире, а стремление донести собственную правду перевешивает готовность выстроить совместные пространства прошлого, указать (не только словесно) на общие универсальные ценности и апеллировать к совместному будущему. Не отрицая значимости осуществляемой деятельности, мы все же скажем, что она не будет в полной мере эффективной, если при установке того или иного памятника за рубежом или проведения выставки не будет дан ответ на главный вопрос: А зачем собственно жителям этой страны нужны предлагаемые образы и интерпретации? Зачем им с почтением относиться к нашему памятнику или тратить время на осмотр нашей экспозиции? В противном случае это не будет препятствовать превращению России во «враждебного иного», ведь если обратиться к «контриторике» европейских политиков и СМИ, то дезавуирование претензий на престиж осуществляется по нескольким векторам: указание на то, что Россия намеренно политизирует историю, а потому, например, присутствие на Параде Победы высокопоставленных чиновников будет выглядеть как моральное оправдание российского внешнеполитического курса; релятивация претензий России представлять себя единственным наследником Победы, так как Советский Союз включал еще 14 ныне независимых государств; указание на сложность и противоречивость истории Второй мировой, не сводимой исключительно к нарративу о победной роли союзников. Как несложно догадаться, все эти три линии контраргументации вряд ли могут быть эффективно опровергнуты простым тиражированием того, что определяется как «общеизвестные факты».

Историческая память как фактор мира
Вторая мировая: транснационализация vs национализация
Мы должны указать на конфликт двух разнонаправленных тенденций: попытки формирования общеевропейской памяти как моральной основы евроинтеграции vs использования прошлого для укрепления национальных нарративов.
В 1990-е гг. успехи в области политической, экономической и бюрократической интеграции было решено дополнить культурно-историческим измерением, то есть формированием пространства общеевропейской памяти. В центре — трагедия Холокоста, ключевая модальность — все европейские народы в разной степени ответственны за ту трагедию. Подобная моральная рефлексия должна заложить дополнительную основу для утверждения общих демократических ценностей. Ключевая форма выражения — трагический нарратив, предполагающий перемещение акцента в историческом повествовании с истории государства, его достижений, военных побед и героев на противоречия, разоблачение национально-патриотических мифов, акцентирование различных трагедий. Вторая мировая война — это не нарратив о победе демократии над злом нацизма (как это было в годы «холодной войны»), а трагическая страница, обращение к которой должно укреплять нашу обеспокоенность собственным моральным обликом.
На протяжении последних 30 лет трагический нарратив получил развитие в становлении специальной инфраструктуры памяти, прежде всего, о Холокосте (создание новых музеев, мемориализация бывших мест заключения, принятие национального законодательства о памятных днях, фильмах (иконическая кинокартина «Список Шиндлера»), учебниках истории. Трагедия Холокоста стала претендовать на статус соединяющей метафоры, позволяющей активизировать разговор о других массовых трагедиях, будь то прочие геноциды (гереро или армян), массовые этнические чистки (как на Балканах в 1990-е гг.), политические репрессии. Немецкие исследователи К. Леггеви и А. Ланг в начале 2010-х гг. предложили концентрическую модель общеевропейской памяти. Ее ядро — Холокост, дальше следует память о ГУЛАГе (репрессиях социалистических правительств), об этнических чистках, войнах и кризисах, колониальных преступлениях, истории миграции и истории европейской интеграции[10]. Политическая прагматика данной схемы очевидна: взаимное признание различных трагедий, воспринятых сквозь призму идеи ответственности, должно способствовать деформации национально-государственной картины мира и превратиться в моральное основание общеевропейского единства.
Любопытно, что развитие новой общеевропейской культуры памяти привело и к определенному росту внимания (прежде всего, в Германии) и к проблеме советских военнопленных, которые в отличие от пленных других членов Антигитлеровской коалиции намеренно содержались в наихудших условиях, а потому смертность у советских военнопленных, по подсчетам историка П. Поляна, составляла 58%, а у несоветских находилась в районе 3–5%[11]. Например, в 2000-е гг. был перестроен музейный центр концлагеря СС Берген-Бельзен, теперь порядка трети экспозиции посвящена судьбам советских военнопленных, в то время как ранее эта тема была маргинальна[12]. Во второй половине 2000-х гг. был музеифицирован концлагерь СС Нойенгамме, который до этого времени функционировал как тюрьма. Центральное внимание уделено также судьбам советских военнопленных, который здесь составляли относительное большинство. Есть даже специальный памятный знак в честь тех военнопленных, которых в порядке эксперимента умертвили газом Циклоном Б.
Естественно, в каждом конкретном случае широкая группа историков и кураторов принимает решение о том, какие акценты расставлять, но примечательны сами трансформации, которые не были бы возможны вне попыток строительства более инклюзивной, новой мемориальной культуры. Намного сложнее дело обстояло с вопросом материальных компенсаций, которых советские военнопленные были лишены, в отличие от других категорий жертв нацизма. В 1990–2000-е гг. существовали отдельные частные немецкие инициативы по сбору средств, однако только в 2015 г. на официальном уровне было принято решение выплатить каждому остающемуся в живых бывшему советскому военнопленному по 2 500 евро[13]. И хотя многими наблюдателями эти меры называются запоздалыми и недостаточными, в контексте нашей статьи мы обращаем внимание на тот факт, что вне контекста процессов формирования общеевропейской культуры памяти даже этот шаг был немыслимым.
Вместе с тем расширение ЕС на восток привело к появлению новых членов, находящихся в активном процессе «преодоления» социалистического прошлого и конструирования национальной идентичности с опорой на вполне «традиционные» национально-патриотические мифы с культом героев. При этом восточноевропейские консерваторы были готовы лишь частично воспринять логику общеевропейской памяти: продвигать свои нации как «таких же жертв», правда, теперь уже «советской оккупации», при этом маргинализируя ответственность за прегрешения в прошлом[14]. Тут можно вспомнить страны Прибалтики, где строительство этнических демократий отчасти опирается на героизацию тех деятелей национальных движений, которые запятнали себя сотрудничеством с нацистами. Ярким примером является Польша, конструирование национального мифа, направленного на подчеркивание страдания польского народа, его героической борьбы против «двух тоталитаризмов» и чествование гражданских подвигов поляков по спасению евреев (наиболее яркий пример — создание в 2016 г. музея в честь семьи Ульмов, которые были расстреляны за укрывание евреев) вошло в противоречие с весьма распространенной практикой повседневного соучастия поляков в политике геноцида[15]. Здесь можно назвать и Венгрию, где яркий пример — музей «Дом террора», партийный проект правой партии «Фидес», открытый в 2002 г. Стремясь объединить память о преступлениях венгерских фашистов и коммунистов, создатели экспозиции уделили первым минимальное внимание и сделали акцент на вторых[16].
В принципе список особенностей дискуссий о Второй мировой войне внутри каждой европейской страны можно продолжать очень долго, причем в большей или меньшей степени ожесточенность дискуссий будет дополнена не только собственным опытом участия в тех событиях, но и влиянием транснациональной перспективы. Но противоречивость европейской памяти о Второй мировой войне не должна вводить в сомнение, скорее «головокружение от успехов» рубежа 1990–2000-х гг. активных сторонников этики ответственности сменилось более трезвым взглядом и пониманием, что свои намерения они принимали за реальность. Как показывают современные исследования, даже в среде молодежи, несмотря на различные образовательные программы, взгляд на Вторую мировую войну в большей степени стимулирован национальной, а не общеевропейской перспективой[17].

Восточный фронт под западным пером
Однако говорить о полном провале самой политики построения общеевропейской памяти вряд ли приходится, скорее она представляет собой нескончаемый процесс попыток примирения вокруг сложных и тяжелых событий (но не их самих!). Потому на практике всегда требуется изобретательность. Приведем в пример речь французского президента Э. Макрона в Ягеллонском университете (Краков) перед польскими студентами. Призывы к построению единой Европы как пространства общих ценностей сопровождались апелляциями к позитивным моментам польско-французский дружбы (от создания Наполеоном Варшавского гетто до поддержки французами польского восстания 1830–1831 гг. и движения Солидарности). При этом краткое упоминание того, что Э. Макрон выступает против попыток России сделать польский народ виновником в развязывании Второй мировой (в действительности декабрьская речь В.В. Путина содержала обвинения в адрес польских элит межвоенного периода) сопровождалась критикой в адрес современной Польши и ее попыток скрывать тематику коллаборационизма с нацистами.
Однако несомненно, что память о Второй мировой войне все чаще включается в разнообразные исторические контексты. Так, для всех бывших социалистических стран эта история неразрывным образом связана с оценкой установившейся затем советской власти. Если в России, особенно на официальном уровне, память о Великой Отечественной войне во многом исключена из анализа сталинского периода в целом, то в зарубежной Европе подобная символическая операция изъятия становится все менее возможной. Весьма показательна здесь резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятая в сентябре 2019 г. примерно при такой же поддержке, что и аналогичное заявление 2009 г. Тезис о преимущественной вине двух тоталитарных режимов, сталинского и гитлеровского, в развязывании войны был сопряжен с осуждением коллаборационизма, а также прочих диктатур и авторитарных режимов. Однако общий пафос направлен на осуждение в принципе тех тоталитарных и авторитарных практик политического управления, которые неприемлемы для демократий, заявляющих в качестве базовых такие ценности, как «уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство права, уважение прав человека, включая права меньшинств». Потому и 80-летие начала Второй мировой стало поводом заявить о более широкой исторической и ценностной повестке.
И даже если бы Россия и ЕС не находились сейчас в состоянии «холодного мира», это в лучшем случае привело бы к трансформации некоторых формулировок по поводу «пакта Молотова — Риббентропа» и его роли в развязывании Второй мировой, но не к смене общей тональности. Многолетняя активность России по представлению себя как спасительницы Европы от нацизма и потому добродетельной державы никак не сказалась на общем направлении европейских дискуссий о Второй мировой войне. Естественно, при желании всегда можно ситуативно найти общий язык, как например, это было сделано на памятной церемонии 2009 г. (к 70-летию начала Второй мировой) в Вестерплатте (Польша). Тогда В. Путин говорил об ошибочности политики умиротворения Гитлера в целом, включив в число этих шагов и «пакт Молотова — Риббентропа», в то время как его польский коллега Д. Туск отметил, что Красная армия принесла полякам свободу от нацизма, однако называть это полной свободой преждевременно. Политическая воля — залог компромисса исторических трактовок в официальных речах. Но это не отменяет главного: разговор о совместном прошлом без обозначения общих ценностей и перспектив будущего всегда будет чреват конфликтами и возвратом к «войнам памяти».
1. The uses of nostalgia // The Economist. 2018-2019. 22 Dec. – 4 Jan. P. 11.
2. Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. - М.: Новое литературное обозрение, 2016; Нора П. Всемирное торжество памяти // Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. - М.: Новое литературное обозрение, 2005. - С. 391-402; Бауман З. Ретротопия. - М.: ВЦИОМ, 2019.
3. См.: Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М.: РОССПЭН, 2012. См. также: Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ / под ред. В.С. Мартьянова, Л.Г. Фишмана. М., 2016.
4. См.: Будрайтский И. Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. М., 2020.
5. См.: Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: РОССПЭН, 2015; Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М.: НЛО, 2013.
6. См.: Тесля А.А. Как менялась память о Второй мировой войне // Эксперт. 2020. № 18-20. С. 97-101.
7. День Победы: скажем спасибо нашим ветеранам // ВЦИОМ. 2019. 7 мая. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9682; Память о войне: история и мифы // ВЦИОМ. 2018. 22 июня. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9176.
8. О рентных отношениях в современном мире см.: Фишман Л., Мартьянов В., Давыдов Д. Рентное общство. В тени труда, капитала и демократии. М., 2019.
9. В Польше, США, Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Чехии, Словакии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Румынии, Испании, Болгарии, Греции, Мальте, Северной Македонии, Ирландии, Австралии, Демократической Республике Конго, Мьянме, Таиланде, Камбодже, Мозамбике, Румынии, Гвинее-Биссау, Турции, Аргентине, Никарагуа.
10. Leggewie K., Lang A. Der Kampf um die europäische Erinnerung. München 2011. S. 7-14.
11. Полян П. Историомор, или трепанация памяти. М., 2016. С. 261.
12. Петри З., Келлер Р. «Спите, дорогие товарищи…». Кладбище лагеря военнопленных Берген-Бельзен. Ганновер, 2016. С. 80-81.
13. Полян П. Историомор, или трепанация памяти. М., 2016. С. 279.
14. См. подробнее: Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2016. № 1 (80). С. 111-121.
15. Hackmann J. Defending the “Good Name” of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015–18 // Journal of Genocide Research. 2018. Vol. 20. No. 4. P. 587-606.
16. Sodaro M. Exibiting atrocities. Memorial Museums and the Politics of Past Violence. New Brunswick, Newark, London, 2018.
17. Wolnik K., Busse B., Tholen J., Yndigegn C., Levinsen K., Saari K., Puuronen V. The long shadows of the difficult past? How young people in Denmark, Finland and Germany remember WWII // Journal of Youth Studies. 2017. Vol. 20. No. 2. P. 162-179.
(Голосов: 23, Рейтинг: 4.78) |
(23 голоса) |
Эксперты РСМД рассказывают об отношении к памяти Второй мировой войны за рубежом
«Исторический аргумент» и моральное обоснование российской внешней политикиЗначимость исторической проблематики во внешней политике России
Ревизионизм истории как война нарративов. Взгляд с Западных БалканБалканские лидеры предпочитают вступать в войну нарративов, только когда это отвечает их интересам, и в весьма ограниченных масштабах
Восточный фронт под западным перомКак изменялся образ Красной армии в западной популярной культуре




